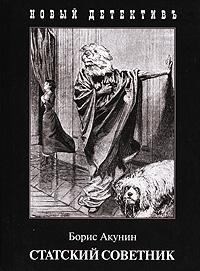В первый миг его лицо сделалось странным – лишенным всякого выражения. Грин догадался: это он не понял, расслышаны ли роковые слова, еще не знает, какую роль ему играть – товарища или предателя. Вот, стало быть, какое у Рахмета настоящее лицо. Пустое. Будто классную доску вытерли сухой тряпкой, и остались мучнистые разводы.
Со всех сторон грянули выстрелы. Фандорин знал, что стрелки Летучего отряда, усиленные мыльниковскими филерами, бьют с монастырских стен, с окрестных крыш и не прекратят огонь, пока в сквере шевелится хоть что-то живое.
Раздеваться в намерения Эраста Петровича не входило, поскольку план предусматривал вероятность поспешной ретирады, однако разгуливать в одежде перед совершенно голым человеком было глупо и неприлично. Вдруг уловка и вовсе не сработает? Так и стоять в пиджаке? К счастью, удобный и простой спортивный костюм позволял одеться в считанные секунды – в конце концов, нижним трико, жилетом и манжетами с воротничком можно было и пренебречь.
Поезд сбавил ход, готовясь тормозить. За окнами замелькали огни, стали видны редкие фонари, заснеженные крыши.
– Слово есть слово. – Он с отвращением высвободился. – Ты увидишь, как он умрет. Потом отпущу. Пусть партия решает. Приговор известен. Объявят вне закона. Каждый, кто увидит, обязан уничтожить, как гадину. Беги на край света, забейся в щель.
– Зачем? Если взят, все равно не поможешь. Только хуже бы сделали.