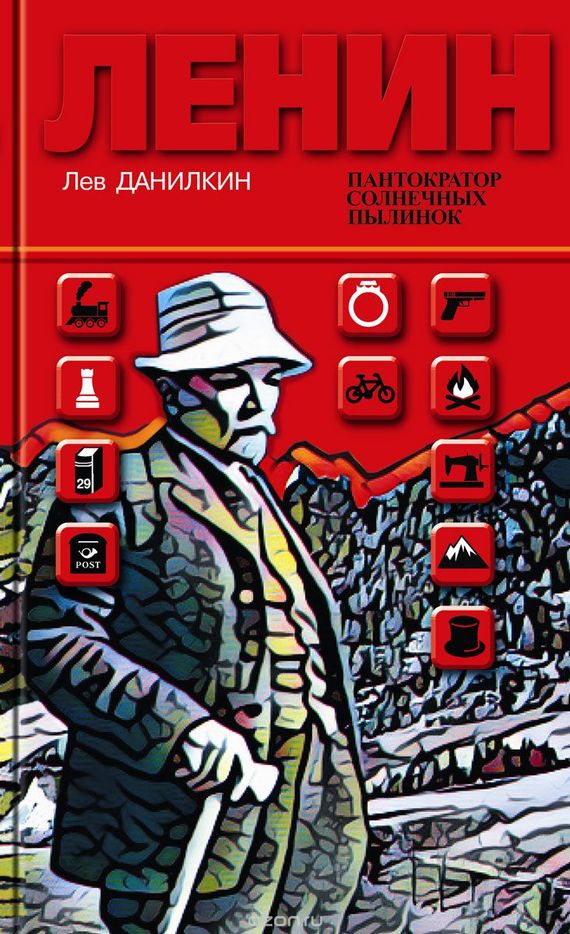Дом на улице Бонье, где Ульяновы прожили первые восемь месяцев своего Парижа, и сегодня смотрится модерновой новостройкой: с затейливым псевдоракушечным декором по фасаду – галеон, да и только. Доска с Лениным на нем выглядит так, будто ее оставили нарочно – вот она, «хижина» вождя пролетарской революции; и понятно, почему «рю Бонье» не вошла в ленинскую мифологию так прочно, как «рю Мари-Роз»: слишком уж вопиюще дорого выглядящая недвижимость. Поскольку ни до, ни после Ленин не обнаруживал ни пристрастия к проживанию в шикарных квартирах, ни склонности транжирить деньги на излишества, можно предположить, что квартира была выбрана потому, что статус вождя партии – даже и пролетарской – предполагал некоторую витринную респектабельность; надо было демонстрировать уцелевшим бойцам, что отступление совершилось организованно, у командования есть план и финансовые возможности для его реализации – и оно не намерено позволять разлагаться – ни себе, ни подчиненным.
Однако Ленин и предположить не мог, что охранка, по-видимому, выставила этого филера напоказ нарочно – чтобы он, Ленин, подумал, что это всё, на что они способны за границей.
Что касается именно «античной культуры», то тут личный опыт не мог подсказать ему однозначного решения. Да, Сократ, Солон и Фемистокл, несомненно, могли послужить достойными образцами и для пролетариев тоже; да, «пролетариат – наследник буржуазной культуры», и никто не позволит левакам вышвыривать из школ Гомера, Пушкина и Шекспира; но нужно ли пролетарию, пусть даже готовому принять все это блаженное наследство, заучивать наизусть отрывки из Корнелия Непота и различать супинум, герундий и герундив?
И, пожалуй, если бы сам он почему-либо отказался от этой работы, то для нее нашелся бы какой-то другой исполнитель – в диапазоне от Столыпина до Керенского; сама территория, «география» и этнос, управляющий «географией», должны были породить силу, которая сумела бы «проапдейтить» сложившееся положение дел, подтянуть его. Видимо, для этого континентального пространства подходил отличный от европейского способ модернизации – сверху: принудительный, догоняющий, связанный с большими демографическими, политическими и экономическими издержками. Ленин, получается, несмотря на то, что сам полагал себя реформатором-марксистом, по сути, – временный псевдоним безымянных географически-исторических сил, которые генерируют «ленина»; в этом смысле абсолютно точным является восприятие Ленина крестьянами – зафиксированное Есениным в «Анне Снегиной». «КТО ТАКОЕ Ленин?» – спрашивают они лирического героя; кто-кто – инструмент.
Квелч, с которым была знакома Засулич, оказался сущей находкой для русских: английский социалист и при этом не оппортунист (уникальная комбинация), трудоголик, владелец собственной типографии и щедрой души джентльмен – его можно было попросить и об оборудовании для печати «Искры», и о выступлении с приветствием от британских рабочих на V съезде РСДРП. Чуть позже он станет вождем крайне немногочисленных английских социал-демократов; в годы же знакомства с Лениным он, как и десятилетие до и после, тянул на себе издание социал-демократической газеты «Justice», где социалистические идеи пропагандировались в форме «Бесед в поезде» – с разъезжающими по железной дороге выдуманными незнакомцами, испытывавшими аллергию по отношению к социализму. В целом в Англии находилось немного желающих писать в этой газете, и поэтому значительную часть объема Квелчу приходилось заполнять собственными новостями и политической аналитикой. Сугубо сектантский характер этой деятельности был очевиден даже Ленину; однако о ее масштабе (который и не снился «Искре») можно судить по тому, что в какой-то момент «Justice» запретили в Индии.
Характер выступлений рабочих Невской заставы был далек от систематического. То собрались в лесу по случаю смерти Энгельса. То сплавали на пароходе «Тулон» – да так, что ради конспирации напоили команду и управляли судном сами. В случае более долгоиграющих бунтов начинали ползти слухи – которые, когда доходили до посторонних марксистов-интеллигентов, часто оказывались устаревшими. Разумеется, информация о том, что «масса сама заговорила о себе громким голосом» – когда мастерицы на табачной фабрике Лаферм, возмущенные снижением зарплаты, перебили в цехах окна и принялись крушить станки, была той музыкой, о которой мечтали уши Ульянова и его коллег по тайному обществу. А уж визит на фабрику градоначальника, который распорядился поливать работниц ледяной водой из пожарных кишок и ответил на доводы стачечниц относительно невозможности прожить на предлагаемые деньги знаменитым: «Можете дорабатывать на улице», – требовал немедленных действий: усугубить, перевести из экономической в политическую плоскость, возглавить. Фабрики, однако ж, были закрытыми корпорациями, куда посторонним особого хода не было; если там и происходило нечто необычное, то объявления на стену не вывешивалось и пресс-секретарь стачечников газеты не обзванивал. Для подтверждения того или иного слуха непременно требовался живой свидетель, с самой фабрики, – но где ж его было взять, да такого, чтобы пошел на контакт? Или, точнее, такую: там же женщины. Неудивительно, что в какой-то момент мы застаем крайне мало пьющего Ульянова в трактире за Невской заставой, за столиком, откуда хорошо слышны не только гудки фабричных труб, но и чужие разговоры; как ни странно, важной частью деятельности марксиста-практика было подслушивание, и не всегда продуктивное: в тот раз, разумеется, посетители заведения смаковали пикантный момент обливания женщин водой, тогда как о политике или хотя бы о требованиях табачных леди речь не заводили; их собственное мнение сводилось к разумной сентенции: «А потому не скандаль!»