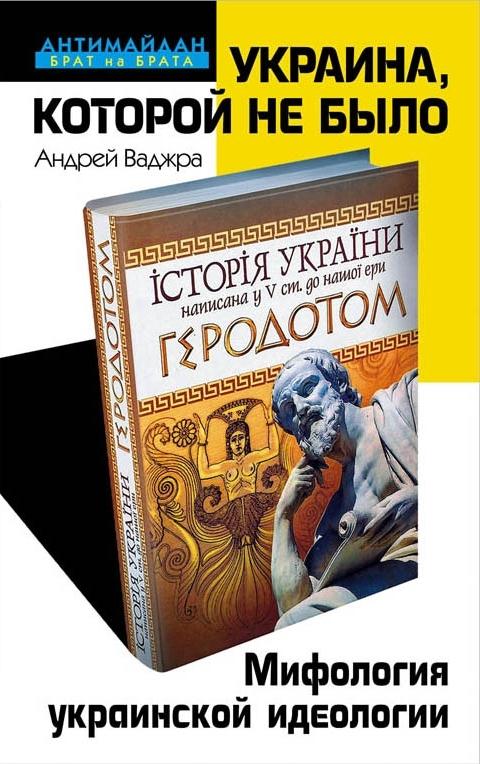Я понимаю ваше удивление. Но дело в том, что ее основы все‑таки были заложены малорусскими учеными и писателями. Давайте начнем с того, что первые русские школьные учебники были написаны ранее упоминавшимися мною церковными братствами Малой Руси, возникшими в качестве реакции на польскую культурно‑религиозную экспансию и политику ассимиляции.
Начну издалека. С фактов, на первый взгляд никак не связанных с вашим вопросом. Где‑то в 1600 году в одной из протестантских семей Восточной Пруссии родился мальчик. Звали его Иннокентий Гизель. Став юношей, Иннокентий, несмотря на запрет отца, покинул протестантскую общину и переехал жить на Волынь. Там он принял преследуемое в те годы поляками православие. Позже Иннокентий перебирается в Киев, где становится монахом Киево‑Печерской лавры. Гизель был неординарной личностью. Благодаря своему уму его замечает митрополит Петр Могила и отправляет учиться в университеты Германии и Англии. После возвращения в Киев, с благословения того же Могилы, в 1646 году Гизеля назначают на должность ректора Киево‑Могилянского коллегиума. Позднее (в 1656 году) он становится архимандритом Киево‑Печерской лавры.
Как он был вынужден признать, украинофильский «журнал «Основа», давший, бесспорно, большой толчок литературной малорусской деятельности, не мог долго существовать по малости подписчиков, что, во всяком случае, указывало на недостаток сочувствия в высшем классе Малороссии. Это одно уже, кроме других соображений, указывало, что для малорусской письменности нужен иной путь. Изобразительно‑этнографическое направление исчерпывалось; в эпоху, когда все мыслящее думало о прогрессе, о движении вперед, о расширении просвещения, свободы и благосостояния, оно оказывалось слишком узким, простонародная жизнь, представлявшаяся прежде обладающею несметным богатством для литературы, с этой точки зрения, являлась, напротив, очень скудною: в ней не видно было движения, а если оно в самом деле и существовало, то до такой степени медленное и трудно уловимое, что не могло удовлетворять требованиям скорых, плодотворных и знаменательных улучшений, какими занята была мыслящая сила общества. Стихотворство еще меньше возбуждало интерес. Буйные ветры, степовые могилы, казаки, чумаки, чорнобриви дивчата, зозули, соловейки, барвинковые веночки и прочие принадлежности малороссийской поэзии становились избитыми, типическими, опошленными призраками, подобными античным богам и пастушкам псевдоклассической литературы или сентиментальным романам двадцатых годов, наполняющим старые наши «Новейшие песенники». Поднимать малорусский язык до уровня образованного, литературного в высшем смысле, пригодного для всех отраслей знания и для описания человеческих обществ в высшем развитии была мысль соблазнительная, но ее несостоятельность высказалась с первого взгляда. Язык может развиваться с развитием самого того общества, которое на нем говорит; но развивающегося общества, говорящего малороссийским языком, не существовало; те немногие, в сравнении со всею массою образованного класса, которые, ставши на степень высшую по развитию от простого народа, любили малорусский язык и употребляли его из любви, те уже усвоили себе общий русский язык: он для них был родной; они привыкли к нему более, чем к малорусскому, и как по причине большего своего знакомства с ним, так и по причине большей развитости русского языка пред малорусским, удобнее обращались с первым, чем с последним. Таким образом, в желании поднять малорусский язык к уровню образованных литературных языков было много искусственного. Кроме того, сознавалось, что общерусский язык никак не исключительно великорусский, а в равной степени и малорусский. И в самом деле, если он, по формам своим, удалялся от народного малорусского, то в то же время удалялся, хоть и в меньшей степени, от народного великорусского; то был общий недостаток его постройки, но в этой постройке участвовали также малорусы. Как бы то ни было, во всяком случае язык этот был не чужд уже малорусам, получившим образование, в равной степени, как и великорусам, и как для тех, так и для других представлял одинаково готовое средство к деятельности на поприще наук, искусств, литературы. При таком готовом языке, творя для себя же другой, пришлось бы создать язык непременно искусственный, потому что, за неимением слов и оборотов в области знаний и житейском быту, пришлось бы их выдумывать и вводить предумышленно. Как бы ни любили образованные малорусы язык своего простого народа, как бы ни рвались составить с ним единое тело, все‑таки, положа руку на сердце, пришлось бы сознаться, что простонародный язык Малороссии — уже не их язык, что у них уже есть другой, и собственно для них самих не нужно двух разом».
Однако в конце XIX века «свидомыми» было принято решение назначить Котляревского отцом украинского языка. Вот бы Иван Петрович удивился, если бы узнал об этом. Думаю, этот курьез его насмешил бы сильнее, чем перелицованная «Энеида», ведь к «возрождению национального украинского языка» Котляревский имел такое же отношение, как и сам Вергилий.
Кстати, о русском царизме. Есть в его истории такая яркая фигура, как Иван Грозный. Им до сих пор пугают детей не только на Западной Украине, но и в Европе. Но при этом у нас стараются не вспоминать, что Великий князь Василий III, отправив в 1525 году свою жену навечно в монастырь, женился на некой Елене Глинской с Полтавщины. А та уже родила ему наследника престола — Иоанна IV, впоследствии ставшего «Грозным». Вот они, превратности судьбы…
Затем Орду заменили Литва и Польша. В 1349‑м поляки захватили галицкие земли, и польский король Казимир провозгласил себя «правителем Королевства Руси». После кратковременного изгнания венграми, в 1387‑м, они вернулись вновь, и на этот раз надолго.