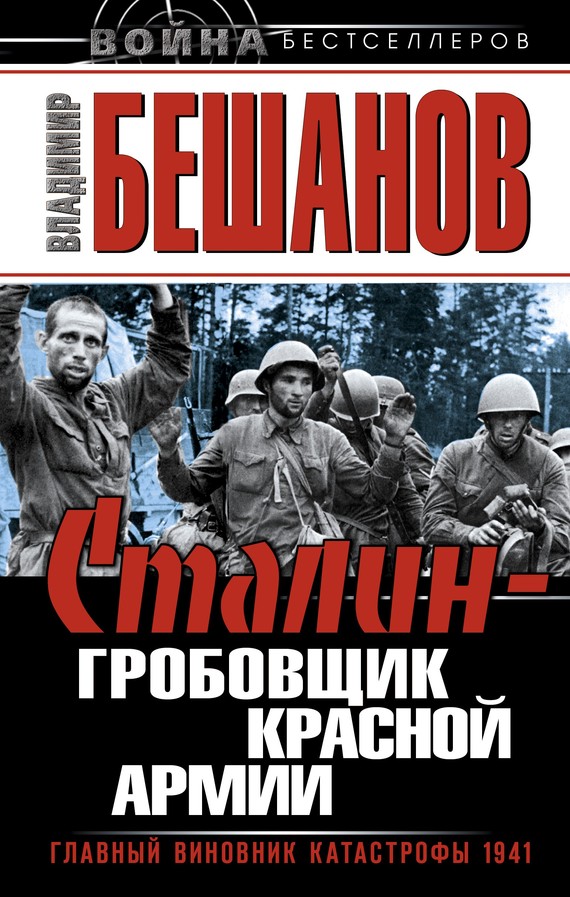С советской помощью и на основании состряпанного московскими специалистами дела о «панмонгольской и прояпонской шпионской организации» в стране первым делом развернули массовый, мобилизующий нацию на великие свершения террор: в течение полугода были арестованы и по большей части казнены 16 министров и их заместителей, 42 генерала и старших офицера, 44 высших государственных служащих, сотни «японских диверсантов» (к ним причислили всех бурят) и «агентов Чан Кайши» (как минимум все китайцы). Буддийских монахов резали поголовно. Из 18-тысячной монгольской армии вычистили 180 человек начальствующего состава, в том числе заместителя военного министра, начальника штаба армии, заместителя начальника политуправления, начальника ВВС, начальника штаба ВВС, командира 1-й кавалерийской дивизии, командира единственной броневой бригады… Душегубством заправлял новый главнокомандующий, по совместительству министр внутренних дел и председатель Чрезвычайной Комиссии, достойный ученик Коли Ежова – Хорлогийн Чойбалсан, по прозвищу Полицейский маршал. Параллельно велась «выбраковка» в самом Особом корпусе: были арестованы и расстреляны корпусной комиссар А.П. Прокофьев, полковник А.П. Пакалн, репрессированы почти все политкомиссары до батальонного уровня включительно; выгнали из армии комбрига В.Ф. Шипова.
Путь «тридцатьчетверки» в войска оказался более тернистым. Бюро Кошкина (военинженера А.Я. Дика успели расстрелять и забыть) представило прототипы А-20 и А-32 летом 1939 года. На испытаниях в Харькове и «смотринах» в Кубинке обе машины продемонстрировали примерно одинаковые ходовые качества и максимальную скорость 65 км/ч, в целом превосходя все состоявшие на вооружении отечественные танки. Однако у 19-тонного А-32 за счет отказа от колесного движителя было более мощное вооружение и более толстая броня (30 мм против 25 мм у А-20) при вдвое меньшей трудоемкости изготовления. К тому же А-32 имел значительный запас по увеличению массы, что оставляло возможность его дальнейшего совершенствования. Внешне от А-20 он отличался наличием пяти пар опорных катков. 19 декабря Комитет Обороны предписал принять на вооружение РККА гусеничный танк Т-34 , обязав конструкторов в кратчайшие сроки предоставить усовершенствованный образец с более сильным бронированием.
В том же году ГАЗ-1, а следом и Таганрогский авиазавод ГАЗ-10 (бывшее предприятие акционерного общества «Лебедь») начали развертывать производство двухместного «отечественного» разведчика и легкого бомбардировщика Р-1. Конструкция этого биплана была спроектирована учеником И.И. Сикорского, окончившим Санкт-Петербургский политехнический институт императора Петра Великого, инженером-механиком Н.Н. Поликарповым, творчески скопировавшим, исходя из наличных возможностей (например, ввиду отсутствия мелких гвоздей полотно к нервюрам пришивали шпагатом) и материалов (вместо дерева, где было возможно, использовали фанеру и стальные трубы, а вместо американской ели – советскую сибирскую сосну), английский планер «Де Хэвиленд» DН9 с американским 400-сильным мотором жидкостного охлаждения «Либерти». Технологию разработал инженер В.С. Денисов. Очень кстати «отыскались чертежи DН4, попавшие в Россию еще в 1917 году и приведенные уже в то время в соответствие с отечественной системой мер, материалами и технологией», да и готовых DH9 было закуплено для Красного Воздушного Флота более сотни. Само собой, наши историки всегда утверждали, что Р-1, строившийся массовыми сериями до 1931 года общим количеством 3032 экземпляра, «хотя внешне и напоминал своего британского предшественника, но, по существу, являлся новым самолетом и по ряду характеристик, в частности, грузоподъемности, превосходил и ДХ4 и ДХ9».
Пока шли бои на плацдарме, севернее него, обходя советские позиции, ударная группа генерал-майора Кобаяси численностью около 13 тысяч человек при ста орудиях совершила скрытный марш по барханам, в два часа ночи передовыми частями вышла к Халхин-Голу в районе горы Баин-Цаган и приступила к форсированию водной преграды – сначала на плотах, лодках и вплавь, потом саперы навели понтонный мост. К 8 утра переправа была закончена, и японские войска, отбросив монгольские кавалерийские эскадроны, заняли вершину Баин-Цагана, где стали деловито окапываться и готовить огневые позиции для артиллерии. Противотанковые и полковые орудия по крутым склонам поднимали на руках. Путь на юг, в тыл советской группировке, был открыт… Теперь немного о топографии, «знании истинной обстановки» и «тщательной разведке».Гора Баин-Цаган, собственно говоря, горой не является. Это высокий обрыв на западном берегу Халхин-Гола: «Крутые склоны делали недоступным подъем на ее вершину со стороны реки танков, бронемашин и автотранспорта. Даже артиллерию можно было поднять на вершину с трудом, и только в отдельных местах. Если смотреть с запада на восток, то гора была не видна. Командир танка или бронемашины видел в смотровую щель башни плоскую, без единого выступа или ориентира, плавно поднимавшуюся местность, которая на самой вершине заканчивалась крутым обрывом к реке. С вершины горы местность к востоку от реки отлично просматривалась до самой границы на 15–20 километров… Ширина реки Халхин-Гол достигала 130 метров, что при глубине два метра и сильном течении создавало серьезную преграду для войск. Долина реки представляла собой сильно заболоченную впадину шириной от одного до трех километров».Эти горы, реки и долины многотысячная группа генерала Кобаяси с тяжелым вооружением сумела преодолеть беспрепятственно и совершенно незаметно для жуковского штаба. Как пишет историк: «Противник, захвативший вершину Баин-Цагана, господствовал бы над местностью на десятки километров к западу от реки. Это прекрасно понимало японское командование». Советское командование, судя по всему, этого не понимало. Что мешало организовать на Баин-Цагане самый обычный наблюдательный пункт в составе трех толковых бойцов с радиостанцией или хотя бы мотоциклом? И «отлично просматривать местность до самой границы».За прошедший месяц ничего не было сделано для того, чтобы выявить силы и намерения противника. Маршал Г.К. Жуков признает, что «японцы в течение июня сосредоточивали свои войска и готовили их для проведения операции…», но все это «выяснилось позднее».С организацией «тщательной разведки» как-то не очень ладилось ни в начале конфликта, ни позже.Во-первых, штаб корпуса был тотально заражен «вражеской агентурой», к которой особисты причислили начальника штаба комбрига А.М. Кущева, его помощника полковника Третьякова и начальника оперативного отдела полковника Ивенкова. Так, Г.К. Жуков докладывал: «Готовясь к боевым действиям, японцы надеялись на ту сложную обстановку, которая создается для Красной Армии в связи с удаленностью района от железных дорог, и, видимо, также возлагали большую надежду на свою агентуру, которую имели в штабе 57-го Особого корпуса и МНРА в лице…» Перечисленные лица «подрывной предательской работой» готовили поражение наших войск, однако были разоблачены и в конце июня арестованы. Интересно, что даже Военная коллегия не нашла повода применить к обвиняемым в измене Родине высшую меру наказания, поэтому им гуманно дали сроки. Комдиву Фекленко, можно сказать, повезло: его отозвали в Москву, поставили командовать 14-й тяжелой танковой бригадой («парадные» Т-35), а год спустя дали танковую дивизию (Георгий Константинович привычкам не изменял. В августе 1941 года, уже выдворенный из Генштаба за развал работы, он доносил И.В. Сталину: «Я считаю, что противник очень хорошо знает всю систему нашей обороны, всю оперативно-стратегическую группировку наших сил и знает наши ближайшие возможности. Видимо, у нас среди очень крупных работников, близко соприкасающихся с общей обстановкой, противник имеет своих людей»).Во-вторых: «Многие командиры, штабы и разведывательные органы в начале боевых действий показали недостаточную опытность… Сложность добывания сведений о противнике усугублялась отсутствием в районе боевых действий гражданского населения, от которого можно было бы кое-что узнать. Со стороны японцев перебежчиков не было… Просочиться мелкими разведывательными группами в глубину обороны противника случалось редко, так как японцы очень хорошо просматривали местность в районе расположения своих войск».Зато японские диверсионные группы в тех же условиях голой степи и отсутствия гражданского населения свободно проникали на монгольскую территорию и военные объекты, добывали информацию, «резали телефонные провода» и «пытались взорвать переправы». Для борьбы с ними в середине июля из Забайкальского военного округа прибыл сводный батальон численностью 500 человек, набранный из лучших пограничников. Основными задачами отряда были «защита района боевых действий от проникновения шпионов и диверсантов, охрана командного пункта, линий связи, складов, водоемов, переправ». Только за первые две недели «боевой работы» чекисты задержали в прифронтовой зоне 160 праздношатающихся лиц, среди которых выявили несколько десятков агентов японской разведки.Итак, к утру 3 июля в расположение советско-монгольских войск незаметно «просочилась» почти целая японская дивизия. Ее передовые батальоны начали выдвигаться к единственной переправе, связывавшей советские войска на плацдарме с западным берегом.Согласно летописям, роль гуся, который «спас Рим», сыграл советник монгольской армии полковник И.М. Афонин. Перед рассветом он выехал к горе Баин-Цаган, чтобы проверить оборону 6-й кавалерийской дивизии, и «совершенно неожиданно обнаружил там японские войска». Полковник бросился на командный пункт на горе Хамар-Даба, где находился начальник штаба корпуса комбриг М.А. Богданов. Тот по телефону доложил ситуацию в Тамцак-Булак Жукову, комдив на ходу скорректировал маршрут выдвижения резервов, перенацеливая их так, чтобы все «траектории» сошлись у горы Баин-Цаган.Первыми к месту событий подоспели батальоны 11-й танковой бригады комбрига М.П. Яковлева и, подчинясь приказу командующего корпусом, совместно с монгольским мотоброневым дивизионом тремя группами разновременно и с разных направлений без подготовки, без поддержки стрелковых и артиллерийских частей, не имея понятия о силах и обороне противника, атаковали японские позиции. В точности, как на киевских маневрах, все взаимодействие и управление на поле боя состояло в команде «Вперед!». Удар 132 танков, палящих из всех стволов, произвел на японских солдат большое психологическое впечатление, но в бегство не обратил. Они ответили огнем из 37-мм скорострельных пушек и 70-мм полковых орудий, бутылками с бензином и подтягиваемыми минами. По воспоминаниям японского офицера, «русские танкисты выпрыгивали и пытались спастись, убегая в сторону своих позиций. Тела многих были сильно обгоревшими, и они, шатаясь, в агонии делали несколько шагов, прежде чем упасть. Некоторые пытались помочь раненым товарищам, другие пытались укрыться под днищами пылающих танков».«Бэтушки» и химические Т-26, поутюжив окопы, повернули обратно. Пришла очередь удивиться Жукову.«В результате этой атаки, – говорится в отчете «Об использовании бронетанковых войск на р. Халхин-Гол», – не поддерживавшейся артиллерией и без взаимодействия с пехотой, бригада потеряла 36 танков подбитыми и 46 сгоревшими. Этот опыт говорит, что такая атака допустима как крайний случай, вызванный оперативными соображениями».Безграмотные действия советского командования, обычное шапкозакидательство в нарушение всех уставов нам объясняют тем, что «ждать, пока подойдет мотопехота и провести совместную атаку, времени не было». Не нашлось времени организовать бой.Заплутавшая мотопехота – 24-й полк И.И. Федюнинского – появилась к полудню и в 13.00 тоже была брошена в сражение «без организованного по времени и месту взаимодействия с танковой бригадой».В 15.00 аналогичным образом – после 150-километрового марша, без артиллерийской подготовки, без поддержки пехоты, не имея сведений о противнике, ориентируясь на горящие танки, – двинулись с юга в атаку полсотни бронемашин 247-го батальона 7-й мотоброневой бригады полковника А.Л. Лесового. Помощник начальника штаба батальона старший лейтенант К.П. Петров докладывал: «Во время боя я двигался со штабом, и начальник штаба приказал мне наблюдать за действиями батальона. С подходом батальона к горящим на Баин-Цаган машинам, я сразу увидел, как загорелось 4–5 броневиков 1-й и 2-й рот. Количество горевших машин становилось все больше, часть задних броневиков повернули назад и пошли в тыл, где мы их собирали. 3-я рота в бой почти не вступила, и лишь одна из ее машин была выведена из строя. Остальные, видя горящие броневики, дальше не пошли». Командир бронеавтомобиля 1-й роты Л.М. Стрельцов: «С подходом к противнику я вел огонь из пушки, а во время ее заряжания и из пулемета. Хорошее попадание из пушки заметил только одно. Первый же снаряд противника, попавший в машину, убил пулеметчика и ранил водителя, загорелся бензобак. Слышу, второй снаряд разбил мотор. Я еще раз залез в башню, но противник открыл огонь по башне. Вижу, слева загорелись броневики Еремеева и Козлобородова и лейтенанта Самардака, а у меня на броневике отлетел весь перед. Я был в 150 м от окопов противника, решил машину оставить и ползком пополз назад в тыл». В скоротечном бою встреченный кинжальным огнем батальон потерял 33 бронеавтомобиля (20 сгорело) и 85 человек личного состава.В 19 часов советские части предприняли совместную атаку на японские позиции с трех сторон: юга, запада и северо-запада. Однако японцы снова отбили приступ. За день бригада Яковлева потеряла 77 танков, бригада Лесового – 37 бронемашин, еще 8 броневиков выбыли из строя в монгольском бронедивизионе.В беседе с писателем Константином Симоновым маршал Жуков, вспоминая события 3 июля, рассказывал: «Я принял решение атаковать японцев с ходу танковой бригадой Яковлева. Знал, что без поддержки пехоты она понесет тяжелые потери, но мы сознательно шли на это. Бригада была сильная, около 200 танков. Она развернулась и смело пошла. Понесла большие потери от огня японской артиллерии, но – повторяю – мы к этому были готовы. Около половины личного состава бригада потеряла убитыми и ранеными и половину машин. Но мы шли на это. Еще большие потери понесли советские и монгольские бронечасти, которые поддерживали атаку танковой бригады. Танки горели на моих глазах. На одном из участков развернулось 36 танков, и вскоре 24 из них уже горели. Но зато мы полностью раздавили японскую дивизию. Стерли».Если бы!Японцев «давили» еще двое суток днем и ночью. По всем правилам военной науки: танками, авиацией, тяжелой артиллерией. Беспрерывные атаки советско-монгольских войск вынудили генерала Камацубара отдать приказ о ретираде. Японцы, прихватив тяжелую технику, ушли по наведенной переправе, которую так и не удалось уничтожить.В то же время группа генерала Ясуоки продолжала атаковать восточный плацдарм, который с советской стороны был усилен танками и бронемашинами из состава 11-й танковой и 9-й мотоброневой бригад. Здесь противник 3 июля пытался добиться перелома, бросив в атаку 73 танка. К счастью, японцы применяли их по-жуковски, без пехоты и артиллерийской поддержки, за что и поплатились, потеряв 41 машину (из них 13 безвозвратно). Советские БТ-5 и БА-10 вели огонь с заранее подготовленных позиций с дистанции 300–400 метров, отечественный 45-мм бронебойный снаряд с легкостью прошивал защиту тихоходных «Оцу», в то время как стрельба японской 57-мм осколочно-фугасной гранатой «по броневикам не нанесла им поражения и не оправдала себя». В бою погиб командир 3-го танкового полка полковник Йошимару. Больше «самураи» танки не использовали.Потери 11-й танковой бригады за три дня боев составили 138 танков (половина безвозвратно) и 259 танкистов. Из полка Федюнинского выбыл 191 человек. Всего в июле советско-монгольскими частями было потеряно 175 танков и 143 бронемашины. Противник, как водится, был разбит вдребезги, «тысячи трупов японских солдат и офицеров устилали склоны Баин-Цагана». Вот только, по данным штаба Квантунской армии, группа Кабаяси потеряла убитыми и ранеными около 800 человек, причем все они, и мертвые, и живые, были эвакуированы. Потери двух танковых полков составили 139 человек.Воспетый в стихах К. Симонова молодецкий удар бригады М.П. Яковлева стал первым опытом боевого применения крупного танкового соединения, и опытом скорее негативным. Его оправдывают оперативными соображениями, крайней необходимостью, возникшей в кризисной ситуации. Однако приграничные сражения лета 1941 года продемонстрировали, что подобная практика стала традиционной в РККА вследствие неумения организовать разведку и взаимодействие войск на поле боя – все время что-то мешало нашим генералам: то противник, то пресловутые «оперативные соображения». (Для примера можно вспомнить, как Г.К. Жуков «давил» противника на Украине: хоть танков в распоряжении командования Юго-Западного фронта имелось в тридцать раз больше, чем в Особом корпусе, против немцев тактика «развернулись и смело пошли» не сработала. Фронт понес фантастические потери, но «мы к этому были готовы».)
Новый этап воздушной войны начался сразу после нового года. 3 января авиачасти четырех советских армий получили приказ в течение следующих десяти суток систематическими и мощными бомбовыми ударами по административным и военно-промышленным пунктам, портам и мостам дезорганизовать работу тылов противника. Вице-адмирал В.Ф. Трибуц уточнил задачи флотской авиации: «Порты абсолютно уничтожить дотла, ибо они являются важнейшими центрами, питающими армию противника. Уничтожить Або, переходить к Раумо и т. д.».
Подготовка комсостава в военных училищах поставлена неудовлетворительно, вследствие недоброкачественности программ, неорганизованности занятий, недостаточной загрузки учебного времени и особенно слабой полевой практической выучки. Усовершенствование командного состава кадра должным образом не организовано…